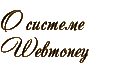|
|
Глава 3. Феномен человеческой речи V. Речь и реакция на неё Полученная оценка широкой роли речи не означает, что речь мы будем понимать в тривиальном смысле. Напротив, встречная работа психолингвистики должна состоять в пересмотре и новом анализе самого феномена речи. Поразившая в своё время умы идея Сепира-Уорфа, восходящая в какой-то мере к В. Гумбольдту и имеющая сейчас уже длинную историю дискуссий и обсуждений, состояла в том, что язык навязывает человеку нормы познания, мышления и социального поведения: мы можем познать, понять и совершить только то, что заложено в нашем языке. Прав В. А. Звегинцев, что по существу эта гипотеза пока ещё и не опровергнута и не отброшена. «С ней не разделаешься», – продолжает он, – «простой наклейкой на неё ярлыка, что она “ложная” или “идеалистическая”». И. В. А. Звегинцев по-своему преобразовал эту идею: «Лингвисты, пожалуй, даже несколько неожиданно для себя обнаружили, что они фактически ещё не сделали нужных выводов из того обстоятельства, что человек работает, действует, думает, творит, живёт, будучи погружен в содержательный (или значимый) мир языка, что язык в указанном его аспекте, по сути говоря, представляет собой питательную среду самого существования человека и что язык уж во всяком случае является непременным участником всех тех психических параметров, из которых складывается сознательное и даже бессознательное поведение человека». Одна крайность думать, что язык представляет собой некую полупрозрачную или даже вовсе непрозрачную среду, которой окружён человек и которую мы не замечаем, полагая, что непосредственно общаемся с окружающим миром; противоположная крайность – представления классического сенсуализма, что индивид с помощью своих органов чувств и ощущений общается с миром, познаёт его и воздействует на него без всякой опосредствующей среды. Этот сенсуалистический Робинзон завёл философию в тупик. Поэтому новейшая идеалистическая философская мысль пытается отбросить «ощущение» и погрузиться в спекуляции о «языке». Материалистическая философия рассматривает «субъект» (как полюс теории познания) в его материальном бытии как существо телесное, чувственно общающееся с внешним миром, и как существо социальное, глубоко насыщенное опытом других людей и отношениями с ними. Наконец, диалектический материализм историчен по своему методу. И это последнее обстоятельство особенно важно для разрешения указанных лингвистических споров. Если бы даже в какой-то отдалённый момент человек был отделён от объективного мира совершенно непрозрачной языковой средой, мы обязаны были бы сразу внести в эту умозрительную картину динамику: непрозрачная среда становится всё более прозрачной, на полпути она уже полупрозрачна, чтобы в некоей предельной перспективе стать вовсе прозрачной; ведь нельзя брать язык в его неподвижности, а человека в его бездеятельности по отношению к объектам? Если же поправить обе эти ошибки, мы получим указанную уже не статическую, а динамическую схему. Да и в самом деле, чем глубже в прошлое, тем более словесная оболочка негибка и неадекватна подлинной природе вещей, развитие же технической практики и научного знания энергично разминает её, делая из хозяина слугой человека. Другая важная сторона современных лингвистических споров состоит в том, что многими авторами язык берётся не как языковое или речевое общение, а как самодовлеющая система, усвоенная индивидом, и рассматривается помимо проблемы обмена словами между людьми. Эта проблема обмена или речевой реципрокности опять-таки оказалась довольно большой неожиданностью, лишь сравнительно недавно во весь рост возникшей перед другими лингвистами и психолингвистами. Данная ситуация тоже дальновидно констатирована в цитированной книге В. А. Звегинцева: «Возникает также необходимость исследований, исходящих из недавно осознанного факта, что акт речевого общения двусторонен и что одинаково важно изучать его с обеих сторон. Ведь в речевом акте не только что-то “выдаётся” (значение или информация), но это что-то и “воспринимается” (опять-таки значение или информация, но уже “с другой стороны”)». Выше мы рассматривали экстероинструкцию и аутоинструкцию как в основном эквивалентные. Теперь после этого короткого лингвистического вступления надо обратить внимание и на их противоположность, на их противоборство. В. С. Мерлин показал, что словесная инструкция затормозить проявление ранее выработанной оборонительной двигательной реакции на условный раздражитель действует у одних испытуемых с хода, у других – с заметными затруднениями. В последнем случае на помощь привлекались поощряющие мотивы: например, экспериментатор говорит, что опыт проводится не просто в научных целях, но имеет задачей выяснить профпригодность испытуемых, и теперь они успешно справляются с задачей затормозить движение. Значит, эта мотивировка устранила, сняла некое противодействие инструкции, которое имело место. У некоторых испытуемых В. С. Мерлин обнаружил, наоборот, ярко выраженную преувеличенную («агрессивную») реакцию после получения словесной инструкции на торможение: вместо отдёргивания пальца при появлении условного сигнала (которое инструкция требовала затормозить) они с силой жмут рукой в противоположном направлении. Значит, к инструкции приплюсовался некоторый иной стимул: либо гетерогенный, либо просто негативный, антагонистичный. Н. И. Чуприкова со своей стороны констатирует: «Степень стимулирующей и тормозящей роли второй сигнальной системы при выработке и угашении условных рефлексов у человека варьирует в достаточно широких пределах... Эта сила (второсигнальных воздействий – Б. П.) может определяться... характером словесной стимуляции экспериментатора, наличием или отсутствием противоположной второсигнальной стимуляции (недоверие испытуемых к словам экспериментатора) и т. п.». Что лежит, какая психофизиологическая реальность, под этими словами: «Недоверие к словам экспериментатора»? Очевидно, меткое выражение «противоположная второсигнальная стимуляция» наводит мысль на правильный путь: здесь может иметь место действующий комплекс прежде накопленных данным индивидом в течение жизни или на каком-то недавнем промежутке, находившихся в латентном состоянии стимуляций; но ведь тут может иметь место не просто случайное столкновение двух противоположно направленных инструкций, а явление отрицательной индукции: словесная инструкция в некоторых случаях индуцирует противоположную, хоть и лежащую в той же плоскости, собственную второсигнальную стимуляцию, негативную аутоинструкцию, которую в этом контексте можно называть волей. Её негативный характер может не бросаться в глаза. Она может у человека вне экспериментальных условий выглядеть как вполне спонтанное, а не негативное формирование желания, намерения, планов, программ. Может показаться, что инструкции экспериментатора просто осложняются прежним жизненным опытом испытуемого. Но всё-таки, как и в случае прямого недоверия к экспериментатору, сложнейшая внутренняя второсигнальная активность индивида, в конечном счёте, является, по-видимому, ответом, отрицательной индукцией на какие-то, пусть следовые, второсигнальные воздействия других людей, на слова и «инструкции» окружающей или окружавшей в прошлом человеческой среды. Таким путём можно расчленить экстероинструкцию и аутоинструкцию, иначе говоря, внушение и самовнушение, ещё точнее, суггестию и контрсуггестию. Первичным останется внушение, которое наука и должна подвергнуть анализу, прежде чем перейти к вторичному и производному негативному ответу на внушение или его отклонению или, напротив, его возведению в степень. Это очень важный шаг выделить в речевом общении, второй сигнальной системе, как ядро – функцию внушения, суггестии. Тем самым ядро находится не внутри индивида, а в сфере взаимодействий между индивидами. Внутри индивида находится лишь часть, половина этого механизма. Принимающим аппаратом внушения являются как раз лобные доли коры. Очевидно, можно даже сказать, что лобные доли есть орган внушаемости. Мы уже отмечали, что, согласно А. Р. Лурия, массивные поражения лобных долей приводят к невозможности для больных подчинять своё поведение словесным инструкциям экспериментатора, хотя, собственно, речевая деятельность этих больных и не проявляет признаков разрушения. Подчеркнём это выражение: подчинять своё поведение словам другого. Внушение и есть явление принудительной силы слова. Слова, произносимые одним, неотвратимым, «роковым» образом предопределяют поведение другого, если только не наталкиваются на отрицательную индукцию, контрсуггестию, обычно ищущую опору в словах третьих лиц или оформляющуюся по такой модели. В чистом виде суггестия есть речь минус контрсуггестия. Последняя на практике подчас выражена с полной силой, но подчас в пониженной степени в обратной зависимости от степени авторитета лица, являющегося источником суггестии. Понятно, что у современных (а не доисторических) людей во взрослом возрасте чистая суггестия, т. е. полная некритическая внушаемость, наблюдается только в патологии или в условиях гипнотического сна, отключающего (впрочем, не абсолютно) всякую «третью силу», т. е. сопоставление внушаемого с массой других прошлых второсигнальных воздействий. Это равносильно отсутствию недоверия к источнику слов, следовательно, открытому шлюзу для доверия. Доверие (вера) и суггестия –синонимы. У детей внушаемость выражена сильно, достигая максимума примерно к 9 годам! В патологии она сильна у дебилов, микроцефалов, но в подавляющем большинстве других психических аномалий она, напротив, понижена, недоразвита или подавляется гипертрофированной отрицательной индукцией. О внушении написано много исследований, но, к сожалению, в подавляющем большинстве медицинских, что крайне сужает угол зрения. Общая теория речи, психолингвистика, психология и физиология речи не уделяют суггестии сколько-нибудь существенного внимания, хотя, можно полагать, это как раз и есть центральная тема всей науки о речи, речевой деятельности, языке. На пороге этой темы останавливается и семиотика. Один из основателей семиотики Ч. Моррис выделил у знаков человеческой речи три аспекта, три сферы отношений: отношение знаков к объектам – семантика; отношение знаков к другим знакам – синтаксис; отношение знаков к людям, к их поведению – прагматика. Все три на деле не существуют друг без друга и составляют как бы три стороны единого целого, треугольника. Но, говорил Моррис, специалисты по естественным наукам, представители эмпирического знания преимущественно погружены в семантические отношения слов; лингвисты, математики, логики – в структурные, синтаксические, отношения; а психологи, психопатологи (добавим, нейрофизиологи) – в прагматические. Принято считать, что из этих трёх аспектов семиотики наименее перспективной для научной разработки, так как наименее абстрактно-обобщённой, является прагматика. Существуют пустопорожние разговоры, что можно даже построить «зоопрагматику». Однако из трёх частей семиотики прагматика просто наименее продвинута, так как наиболее трудна. Примером может послужить неудача специально посвящённой прагматике в семиотическом смысле книги немецкого философа Г. Клауса. Дело тут сведено к довольно внешней систематике воздействия знаков на поведение людей по «надёжности», силе, интенсивности. А именно выделяются четыре функции: 1) непосредственно побуждать человека, т. е. прямо призывать к тому или иному действию или воздержанию; 2) информировать о чем-либо, в свою очередь побуждающем к действию; 3) производить положительные или отрицательные оценки, воздействующие на поступки информируемого; 4) систематизировать и организовывать его ответные действия. У Ч. Морриса они расположены в другом порядке, а именно: на первое место он ставит знаки-десигнаторы (называющие или описывающие, несущие чисто информационную нагрузку), затем аппрайзеры (оценочные), прескрипторы (предписывающие) и, наконец, форматоры (вспомогательные). Все они, по Моррису, тем или иным образом влияют на поведение человека и составляют неразрывные четыре элемента прагматики (и их не может быть более чем четыре) как науки о воздействии слова на поведение, которая в свою очередь часть более широкой науки семиотики. Однако, будучи расставлены в таком порядке, как у Морриса, они лишают семиотику, в частности прагматику, сколько-нибудь уловимого социально-исторического содержимого. А на деле исходным пунктом является удивительный механизм прескрипции (он лишь на первый взгляд сходен с механизмом словесной команды, даваемой человеком ручному животному). Выполнение того, что указано словом, в своём исходном чистом случае автоматично, принудительно, носит «роковой» характер! Но прескрипция может оказаться невыполнимой при отсутствии у объекта словесного воздействия, необходимых навыков или предварительных сведений. Тогда непонимание пути к реализации прескрипции временно затормаживает её исполнение; следует вопрос: «как», «каким образом», «каким способом», «с помощью чего» это сделать? Такой ответ потребует нового «знака» «форманта», разъясняющего, вспомогательного. После чего прескрипция может сработать. Но торможение прескрипции способно принять и более глубокий характер отрицательной индукции, негативной задержки. Тогда, чтобы усилить воздействие прескрипции, суггестор должен уже ответить на прямой (или подразумеваемый) вопрос: «А почему (или зачем) я должен это сделать (или не должен этого делать)?» Это есть уже критический фильтр, недоверие, отклонение прямого действия слова. Существует два уровня преодоления его и усиления действия прямой прескрипции: а) соотнесение прескрипции с принятой в данной социально-психической общности суммой ценностей, т. е. с идеями хорошего и плохого, «потому что это хорошо (плохо), похвально и т. п.»; б) перенесение прескрипции в систему умственных операций самого индивида посредством информирования его о предпосылках, фактах, обстоятельствах, из коих логически следует необходимость данного поступка; информация служит убеждением, доказательством. Такой порядок расстановки прагматических функций разъясняет социально-психологическую сущность явления, уловленного в «прагматике» Морриса. Предыдущая страница / К оглавлению / Следующая страница |
 |
|
© 1998 Справочная служба русского языка
   |
||